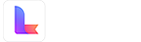На фоне девственно чистых ковриков с глубоким ворсом эти кеды смотрелись как гноящаяся рана.
Перегородка зажужжала. Стекло опустилось не полностью, лишь на щель, достаточную, чтобы в зеркале заднего вида появились глаза водителя.
Он посмотрел на нее так, как смотрят на жирное пятно на шелковой рубашке. Нажал кнопку, и стекло поползло вверх, замуровывая ее. Он прибавил громкость радио, заглушая сам факт ее существования.
Машина замедлила ход. Они приближались к кованым воротам поместья Вольских.
Охранник в будке замешкался. Он сверился со списком, посмотрел на машину, снова на список. Три секунды. Ему потребовалось три полных секунды, чтобы решить, позволено ли ей войти в место, которое по закону считалось ее домом.
Автомобиль остановился у подножия известняковых ступеней.
Водитель не вышел. Он щелкнул замком багажника и стал ждать.
Аглая открыла дверь. Влажная жара летнего города ударила в лицо, густая и удушливая. Она прошла к багажнику, вытащила свою единственную, потрепанную брезентовую сумку и закинула ее на плечо.
Савельич, дворецкий, служивший семье Вольских еще до рождения Аглаи - и до того, как ее выбросили, - стоял на верхней ступеньке.
Он не поклонился. Он не улыбнулся.
Он вытянул руку, жестко указывая указательным пальцем в сторону дома.
Вход для прислуги. Дверь для черни.
Аглая поправила лямку на плече. Металлическая пряжка впилась в ключицу. Она посмотрела на Савельича.
Она не сверлила его взглядом и не умоляла. Она просто смотрела сквозь него, ее глаза были темными и немигающими, лишенными того подобострастия, которого он ожидал.
Она ступила на первую ступеньку. Затем на вторую. Она прошла мимо его вытянутой руки, словно это была ветка дерева, загораживающая тропинку.
Савельич набрал воздуха, чтобы заговорить, отчитать, возможно, даже физически преградить ей путь.
Аглая слегка повернула голову. Их взгляды встретились.
Это был взгляд, который она отточила в общих душевых детского дома, взгляд, который говорил, что насилие - это язык, которым она владеет в совершенстве.
Савельич замер. Его рука опустилась.
Она толкнула тяжелые дубовые двери.
Холл встретил ее агрессивной атакой света. Хрустальная люстра, достаточно огромная, чтобы раздавить малолитражку, свисала с трехэтажного потолка, преломляя свет в тысячу колющих кинжалов.
Из гостиной слева доносился смех. Это был звук рекламы идеальной жизни.
Она пошла на звук. Ее кеды не издавали шума на мраморе, но ее присутствие, казалось, высасывало воздух из комнаты.
Смех оборвался мгновенно.
Это была живая картина богатства.
Прасковья Вольская, ее биологическая мать, сидела на бархатной кушетке, поднеся чашку к губам. Чашка звякнула о блюдце, расплескав несколько капель «Эрл Грея».
На долю секунды глаза Прасковьи расширились - вспышка узнавания, возможно, даже вины, - прежде чем маска послушной жены захлопнулась обратно. Она не встала. Она не раскрыла объятий. Она смотрела на Аглаю со смесью ужаса и жалости, словно наблюдала репортаж о трагедии в далекой стране.
Святослав Вольский, ее отец, проверил свои часы «Патек Филипп». Он нахмурился, между бровями пролегла глубокая вертикальная складка, словно прибытие Аглаи сбило его квартальный график.
И еще там была Зинаида.
Зинаида сидела на полу в окружении разорванной упаковочной бумаги и открытых коробок. На ней был твидовый костюм от «Шанель», который стоил больше, чем годовой бюджет последнего приюта Аглаи.
Она цеплялась за руку Прасковьи, положив голову на плечо матери. Ее глаза, большие и голубые, метнулись к Аглае. В них мелькнуло что-то острое - территориальная агрессия, - прежде чем это было скрыто спектаклем невинности.
Во главе комнаты, в кресле с высокой спинкой, восседала Василиса Вольская. Матриарх.
Она держала трость с серебряным набалдашником. Она приподняла ее на дюйм и уронила. Глухой стук.
- Ты здесь, - сказала Василиса. Ее голос напоминал шуршание сухого пергамента. Она просканировала Аглаю от небрежного пучка волос до дешевой обуви. - Иди помойся. От тебя несет метро.
Аглая стояла неподвижно. Статуя, высеченная из тишины. Она позволила оскорблению омыть ее, отмечая, как вздрогнула Прасковья, но промолчала, как Святослав отвернулся к окну.
- О боже, - ахнула Зинаида, театрально прикрыв рот рукой. - Это правда? Она что... она не говорит? Я читала в досье, что у нее... задержка развития.
- Зинаида, тихо, - пробормотала Прасковья, хотя ее рука успокаивающе гладила волосы Зинаиды. - Аглая, это твоя сестра.
Зинаида встала. Она подошла к Аглае, цокая каблуками по паркету. Остановилась в футе от нее, вторгаясь в личное пространство. От нее пахло ванилью и старыми деньгами.
Она наклонилась для объятия, но ее руки оставались жесткими. Она приблизила губы к уху Аглаи.
- Вали обратно на помойку, - прошептала Зинаида. Яд в ее голосе был настолько чистым, что это почти восхищало.
Аглая не дрогнула. Она повернула голову всего на дюйм и уставилась прямо в зрачки Зинаиды.
Она не моргала. Она не дышала. Она просто смотрела, препарируя страх, который лежал под агрессией.
Улыбка Зинаиды дрогнула. Она сделала полшага назад, ее уверенность треснула под тяжестью этого мертвого, тяжелого взгляда.
- Отведи ее в комнату, - рявкнул Святослав, разрывая напряжение. - Северное крыло. Третий этаж.
Савельич возник у локтя Аглаи.
- Сюда.
Они прошли мимо второго этажа. Дверь в комнату Зинаиды была приоткрыта. Пещера из розового шелка и белой мебели, залитая послеполуденным солнцем.
Они поднимались выше. Воздух становился теплее, душнее. Ковер закончился, сменившись голыми половицами.
Савельич остановился у узкой двери в конце коридора. Отпер ее и толкнул.
Это была переделанная кладовка. Окно было маленьким, выходило на кирпичную стену соседнего здания и переулок внизу.
- Ужин в семь, - сказал Савельич. - Опоздание означает отсутствие обслуживания.
Он ушел. Замок щелкнул.
Аглая бросила сумку. Тишина комнаты хлынула ей навстречу. Она подошла к окну и посмотрела вниз. Садовник стриг живую изгородь, не подозревая, что с чердака за ним наблюдает призрак.
Она села на край узкой кровати. Матрас был жестким.
Она сняла кед, поддела ногтем скрытый отсек в каблуке и вытащила маленький серебристый цифровой диктофон. Ее большой палец коснулся кнопки «стоп». Красный огонек записи погас.
У нее было каждое слово. Каждое оскорбление. Каждая заминка. Она сунула его в карман перед входом в гостиную - рефлекс, отточенный годами необходимости иметь улики, чтобы выжить.
Она сунула руку в карман и достала лимонный леденец, обертка громко зашуршала в пустой комнате. Развернула его и закинула в рот.
Кислый, химический вкус ударил по языку, резкий и настоящий.
Это было единственное в этом доме, что не являлось ложью.
/0/22626/coverbig.jpg?v=e22a327f1d23ce0a2610fd7e87eb11f3)


/0/20959/coverbig.jpg?v=f57a1b5cbed06ef2dc48d853b43c1da8)
/0/10251/coverbig.jpg?v=2446413cd604eea45bf19da5225927e2)
/0/3496/coverbig.jpg?v=60fa407c134f05660ba65013ab4f4c81)
/0/20628/coverbig.jpg?v=b621d4c1aae4d73502f202ad09b0bf14)
/0/16582/coverbig.jpg?v=289c68ff96f8f89e55e84875ce6544b0)
/0/15723/coverbig.jpg?v=63386835bd5568f17c519299b47ceaef)
/0/21657/coverbig.jpg?v=ce47ffb467843331c177d83b1951d717)